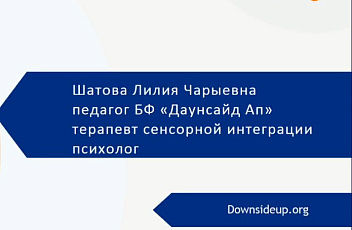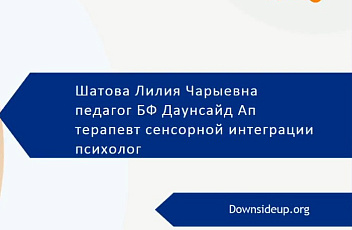Всю свою жизнь Екатерина Грачева (1866–1934) посвятила служению больным детям, отвергнутым всеми: родителями, родственниками, обществом. Она воспитывала и лечила тех, кого тогда называли идиотами, припадочными, калеками. Это были дети с психической и/или физической инвалидностью, которых Грачева сама находила в Петербурге и окрестностях. Она пыталась подобрать подход к каждому ребенку, исходя из его индивидуальных особенностей и способностей. Не имея специальной медицинской и педагогической подготовки, Е. К. Грачева создала уникальную методику гуманного воспитания и социализации детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, привлекла к этой проблеме ведущих медиков и ученых, открыла школу и три приюта, написала методические пособия.
 Родной брат этой удивительной женщины, Коля, до пяти лет не мог ходить, у него диагностировали эпилепсию без органических поражений нервной системы. В 1886 году, когда один за другим умерли их родители, Екатерина взяла брата на попечение. Недуг прогрессировал, приступы повторялись каждые три часа, и приглашенный психиатр поторопился предречь скорый «exitus letalis». Напрасными оказались все попытки поместить мальчика в клинику в Петербурге. Там не желали иметь дело с безнадежным больным, кончины которого ждали со дня на день. В декабре 1890 года Екатерина отвезла брата в часовню, к чудотворной иконе, и больной исцелился, приступы больше не повторялись. Впоследствии она говорила, что принялась за этот труд — уход за больными детьми — в память исцеления брата.
Родной брат этой удивительной женщины, Коля, до пяти лет не мог ходить, у него диагностировали эпилепсию без органических поражений нервной системы. В 1886 году, когда один за другим умерли их родители, Екатерина взяла брата на попечение. Недуг прогрессировал, приступы повторялись каждые три часа, и приглашенный психиатр поторопился предречь скорый «exitus letalis». Напрасными оказались все попытки поместить мальчика в клинику в Петербурге. Там не желали иметь дело с безнадежным больным, кончины которого ждали со дня на день. В декабре 1890 года Екатерина отвезла брата в часовню, к чудотворной иконе, и больной исцелился, приступы больше не повторялись. Впоследствии она говорила, что принялась за этот труд — уход за больными детьми — в память исцеления брата.
В дневнике Екатерины Грачевой «36 лет среди больных детей» описано ее каждодневное самоотверженное служение. Оно началось в 1894 году с того, что, проводя обследование в одной неблагополучной семье, Грачева увидела запуганную девочку Таню, которая спряталась от нее под столом. В 9 лет ее толкнула пьяная мать, девочка разбила голову о чугун и через год стала «совсем глупая». Мать умерла, отец пил. Грачева пыталась пристроить девочку в какое-либо учреждение, но ее не брали ни благотворительные общества, ни больницы, ни приюты. И тогда она с благословения архимандрита Игнатия (Малышева) организовала приют для отверженных душевнобольных детей в собственной квартире: поставила детские кровати с сетками, приготовила всё необходимое. Заметив полку для игрушек, ей сказали, что это лишнее: ведь «идиоты игрушек не понимают». «Я с этим не согласна, — писала в дневнике Грачева. — Как могут быть дети без игрушек». Один из основоположников олигофренопедагогики французский врач и педагог Эдуард Сеген сравнивал воспитание умственно отсталого ребенка с обучением речи глухонемого, ибо он представляет собой существо, которое «ничего не знает, ничего не может, ничего не желает». Всей своей деятельностью Грачева доказала, что процесс воспитания детей с глубокой умственной отсталостью должен быть нацелен на преодоление их изолированности от других детей и от общества. Она отстаивала принцип человечного отношения к людям с особенностями развития. Ее воспитанников посещали знаменитые ученые: В. М. Бехтерев, А. Ф. Остроградский, В. П. Осипов, Э. А. Гизе, В. В. Клименко, А. Ф. Лазурский и др., — и все они поражались самоотверженной подвижнической работе Грачевой по воспитанию тех, у которых, казалось, не осталось никакого шанса на спасение.
Немецкий психиатр Эмиль Крепелин, автор классификации психических болезней, ввел в науку термин «олигофрения» (малоумие). Но неясным осталось главное — возможно ли лечить больных с таким диагнозом. Одним из первых в России попытался ответить на этот вопрос И. В. Маляревский, открывший в 1882 году на окраине Петербурга «Врачебновоспитательное заведение для детейидиотов, эпилептиков и умственноотсталых». Там стремились адаптировать детей к будущей жизни, прививали им трудовые навыки. В основном учили ремеслам, сельскохозяйственным работам, старались смягчить симптоматику болезни и минимизировать вредные привычки. Олигофренопедагогическое заведение
И. В. Маляревского за двадцать лет выпустило 401 воспитанника обоих полов.

Е. К. Грачева принимала в свой приют еще более сложных больных, даже тех, кто не умел самостоятельно пить и есть. Впервые в нашей стране она взялась воспитывать слепоглухонемую девочку, разработав особую методику психологопедагогической работы с таким ребенком. Осознавая глубину страдания депривированных умственно отсталых детей, Грачева ощущала в себе призвание помогать этим несчастным. Екатерина Константиновна лично участвовала во всем, что касалось процесса воспитания в ее приюте: играла с детьми, кормила, выводила на прогулку и, что самое важное, оставалась с ними одна на всю ночь, когда все их страхи и недуги усиливались. С любовью и добротой Грачева описывает эпизоды жизни учреждения, подопечных которого она считала своими детьми, а они ее звали тетей Катей (а по ночам — мамой). Она писала: «Я так счастлива, что иного счастья мне не надо: детки мои, милые детки около меня». Спасенные жили у нее как в семье, она старательно избегала атмосферы казенного приюта.
Ей помогали благотворители; на открытие приюта они привезли подарки: сладости, куски ситца и бумазеи на белье, игрушки. Грачева устроила детям на Рождество елку, сожалея, что ее воспитанники не могут клеить и вырезать игрушки для нее, — ведь это такое веселое занятие! По воспоминаниям Екатерины Константиновны, в праздничный день детей переодели в новые красные платья и белые передники (в будни они носили темносиние), чтобы создать особую атмосферу. На утренник в приют пригласили детей из бедных семей, однако здоровые дети боялись больных и, получив в подарок игрушку и сладкое, торопились уйти...
Выслушивая «знатоков», поддерживающих распространенное мнение о том, что «идиотов не лечат», Екатерина Константиновна решительно возражала: именно столь тяжело больным детям необходима медицинская помощь: «Неужели в громадном Петербурге не найдется ни одного врача — человека, который согласился бы один раз в неделю или хоть два раза в месяц посещать приют?» И ей это удалось! 31 декабря 1896 года она записывала: «…наконец удалось наладить медицинскую часть. Доктор Гизе почти ежедневно навещает приют, при тяжелых заболеваниях приезжает даже 2 раза в день, даже ночью. Летом его заменял др В. П. Осипов. Консультантом в приюте был проф. В. М. Бехтерев — к нему возили более интересных детей. Доктора Б. В. Верховский, С. А. Раппопорт и Е. Ф. Фридман и др С. А. Тривус — тоже посещали приют. Надо еще наладить учебную часть — тогда будет совсем хорошо».
Летом воспитанники Грачевой целые дни проводили в саду. Они окрепли, стали более послушными. Екатерина Константиновна решила начать регулярные занятия. Она купила книги, тетради, картинки, развивающие игры, карандаши. Покупки красиво разложили и позвали детей. Увидев так много «подарков» («точно елка», сказала няня), они вначале остановились, заулыбались. Потом, правда, все перерыли, карандаши уронили, картинки от лото и кубиков перепутали, так что пришлось спешно всё убрать.

Если в самом начале в приюте Грачевой были всего две воспитанницы, то к началу 1896 года с ней жили уже пять девочек. В феврале 1896 года, узнав, что на Песках (район Петербурга) девочку по имени Мотя держат под столом на привязи, Грачева поспешила туда. Семья Павловых обитала в подвале, на кухне, где постоянно шла стирка и от пара ничего нельзя было разглядеть. Ктото схватил Екатерину Константиновну за ногу. «Не бойтесь, это онато и есть, кого спрашиваете», — сказали ей. Под столом на четвереньках стояла девочка и скалила зубы. «Нельзя ее трогать, она кусается», — предупредили гостью. Она попросила показать девочку, но ее нельзя даже было вытащить изпод стола: веревка была коротка, узел затянут намертво, а разрезать мать отказалась: «Убежит, ищи потом». Грачева сказала, что возьмет Мотю в приют. Выйдя из подвала, она с удивлением увидела на соседнем здании вывеску «Фребелевские курсы». Здесь читали лекции о «наилучшем воспитании детей», но никого не взволновала судьба ребенка, содержащегося как животное.
Когда родители Моти привезли ее к Грачевой, мать просила не бить ее много, а отец, наоборот, говорил, что без розги ничего не сделаешь, слов она не понимает. Когда ее стали мыть, девочка кричала, сопротивлялась, кусалась, трое взрослых едва с нею справились, — очевидно, мытье ей было совсем незнакомо. На стуле сидеть она не умела, ела, лежа на полу, без ложки, как животные. Уложить ее на постель оказалось невозможным — даже с матраца, положенного на пол, она сползла, свернулась клубочком и так уснула. Екатерина Константиновна приступила к невероятно сложному процессу воспитания этой девочки.
Летом в соседнюю квартиру забрался мальчишка, стащил котлету и хлеб. Его поймали. Поведение его было странным, на вопросы он не отвечал, прыгал, хохотал. «Да он из ваших, берите его», — решили присутствующие. Так у Грачевой появился первый мальчик.
В начале осени того же 1896 года приют переехал из двух комнат в большую квартиру, появилась возможность разделить воспитанников по степени тяжести заболевания. «Занятия тогда пойдут более правильно», — надеялась Грачева. Ее беспокоило, что она мало знает, но никто ей ничего не мог посоветовать, никакие методики не подходили к ее детям.
5 сентября она записывает: «Ездила в Эммануиловский приют, хотела посоветоваться о воспитании детей. Только день даром потеряла. Сказали: “Надо наказывать”. Нет, никогда я не соглашусь с этим. Как можно наказывать боль ного ребенка? Неужели еще наказаниями я их буду мучить? Нет, никогда! Пусть хоть детство у них будет радостное. Светлым воспоминанием останется оно для тех, кого придется переводить в больницу для душевнобольных, где они до смерти будут лишены свободы».
Полностью исключив применение всяких насильственных мер к больным детям, Екатерина Константиновна вместе с воспитательницамиединомышленницами ласковым, гуманным отношением к своим подопечным добилась выдающихся результатов в педагогической и психотерапевтической деятельности. Ее дети носили чистую и опрятную одежду, соблюдали четкий режим, проживали в красивых помещениях. Грачева старалась понять причину раздражения или недовольства ребенка, а не видеть в этом только патологию или капризы. Поразительно: эта подвижница так любила своих больных подопечных, как иным родителям не удается любить здоровых детей.
Она настаивала, что воспитанникам полезны ежедневные подвижные игры, хотя они даже не умели ничего держать в руках. Приучаясь играть с большим мячом, дети постепенно обучались многим полезным движениям, стали бить меньше посуды, меньше обливаться. Ей хотелось наладить правильную гимнастику, а ей говорили о «лишних затеях»: «Дети сыты, живут в чистоте и тепле, не обижены, чего же больше?» Она возражала: «Но разве это все, что нужно челове ку?» Проблема состояла в том, что этих несчастных больных больше никто за людей не принимал.

Порой Екатерина Константиновна нанимала коляску и ехала с детьми кататься. Каждый ребенок посвоему выражал радость. Все обращали на них внимание, но Грачева надеялась, что обилие новых впечатлений благотворно ска жется на состоянии детей: «Надо разбудить их спящий мозг». В помещении приюта дети часто сидели, ничего не делая, ничем не интересуясь, а во время катания все они смеялись, на чтото показывали, болтали, особенно им нравился звонок конки. Когда ей твердили о напрасной трате денег на эти прогулки, она парировала: люди ходят в театр, покупают наряды, почему же она не может себе доставить удовольствие? Ведь радость детей — это ее радость.
В 1897 году архимандрит Игнатий (Малышев), выкупивший в свое время у Грачевых дом и благословивший Екатерину Грачеву в память об исцелении брата помогать больным детям, перед смертью завещал весь дом приюту. Увеличились пожертвования, выросло число воспитанников. Но проблема организации занятий попрежнему казалась неразрешимой, ибо никто не знал, как обучать таких детей. На своем опыте Грачева убедилась: «Всё то, что продается в изящных коробочках, красиво разложенное, не годится моим деткам: материала мало, рисунки слишком трудны». Как никто другой знавшая своих подопечных, она сама стала разрабатывать занятия и пособия для воспитанников.
Колоссальные усилия подвижницы оказались не напрасными. Ее труд высоко оценил посетивший приют известный сурдопедагог А. Ф. Остроградский. «Он заинтересовался моими занятиями, особенно книгой с картинками, которую я сделала для Кати, — записывает Грачева в дневнике. — Александр Федорович дал мне прекрасную мысль завести записи об успехах детей. Кто, что, во сколько времени выучит? Когда, какое слово или звук в первый раз правильно произнесет?»
В мае 1898 года в присутствии городских учителей и членов Общества помощи бедным и больным детям Е. К. Грачева представила достижения своих воспитанников. Дети не боялись, просили «еще спросить», охотно показывали свои работы и тетради. Казалось, их успехи невелики: лучшая ученица пишет и читает легкие слова по складам, счет освоила в пределах десятка, многие считают только до пяти… Но какой колоссальный ежедневный труд потребовался, чтобы этому их научить!
После «экзамена» детей ожидало угощение, а гостей — чаепитие, во время которого одна учительница высказала мысль об открытии «школы для отстающих и припадочных детей», горячо поддержанную многими. Ведь первых исключают, а вторых не принимают в школы. Двое возражали: такую школу открыть нельзя, в ней не будет учеников: «Кто захочет поместить своего ученика в школу дураков?»
Но уже через 2 месяца школа была открыта! Дети гордились, что участвовали в ее устройстве, — ведь их работы продавались на лотерее, а деньги пошли на обустройство класса. Была приглашена опытная учительница. А Екатерина Константиновна с энтузиазмом занялась занятиями с младшей группой. Дети полюбили школу, а после Рождества пришли матери троих здоровых, но бедных детей — просить, чтобы их приняли в эту школу.
Приобщая детей к чтению, развивая их речь, воображение, память, мышление, Е. К. Грачева заложила основы руководства чтением ребенка с ограниченными интеллектуальными возможностями. В открытой ею школе чтение занимало одно из важнейших мест в процессе воспитания детейолигофренов, поэтому важной целью стала организация библиотеки при школе и приюте. На основе методологического принципа неделимости развивающих, профилактических и коррекционных задач Грачева разработала особую концепцию коррекционновоспитательной деятельности. В трех классах школы за 9 лет, с 1898 по 1907 год, обучалось 134 ребенка. Здесь они проходили в адаптированном виде предметы обычной школь ной программы: письмо, чтение, арифметику, Закон Божий, пение, рисование, жизнь растений, естествознание, а также обучение ремеслам.
В 1899 году приют занял весь дом на Белозерской, здесь были открыты специальные отделения для глубоко умственно отсталых: для малолетних, для «поддающихся развитию эпилептиков и идиотов», а также для «агрессивных идиотов». В том же году приюту пожертвовали дачу в Полюстрове, и на лето 1900 года 20 детей перевезли на дачу. Из экономии дважды в неделю Е. К. Грачева сама привозила туда чистое белье и отвозила в город грязное. Ее упрекали: прилично ли начальнице грязное белье возить? Она парировала: никакой труд не может быть унизителен.

В 1900 году с целью основания в России приютов «для умственно отсталых, идиотов, эпилептиков и инвалидов» по почину Е. К. Грачевой было создано благотворительное общество «Братство во имя Царицы Небесной» во главе с графиней О. Д. Апраксиной. Отовсюду стали приходить прошения о приеме больных детей. При приюте открыли курсы для сестернянь, где лекции читали не только врачи, но и сама Екатерина Константиновна. Вышла ее брошюра
«Беседы с сестраминянями о воспитании и развитии детейидиотов и эпилептиков» (1902), в которой Грачева давала анамнез больных детей до помещения их в приют.
В сентябре 1902 года построено и освящено новое здание приюта. На первом этаже находилось «слабое отделение для полных идиотов и для беспокойных», на втором — канцелярия и Фребелевское отделение (Отделение Фребелевского общества — объединения педагогов, поддерживающих идеи Фридриха Фрёбеля, создателя детских дошкольных учреждений.). На третьем — школа и ремесленное отделение, на четвертом — столовая для сестер и их спальни. На всех лестницах установили предохра нительные сетки. Была своя баня, души с холодной, теплой и горячей водой для водолечения. В бельевой и гладильне старших девочек приучали к полезному труду. Екатерина Константиновна, глядя на новый дом, и радуется, и беспокоится: «Все предусмотрено, все сделано, чтобы детям хорошо в нем жилось, но где я найду много добрых людей, которые будут любить и жалеть моих несчастных деток? Так хорошо жилось в первых двухтрех комнатах в маленьком деревянном доме. Там была родная семья, здесь будет большой приютбольница».
Один московский доктор, ездивший за границу осматривать детские учреждения для эпилептиков, заметил, что нигде в заграничных приютах он не видел таких веселых детей, как в приюте Грачевой. Она записала в дневнике: «Это лучшая похвала, которую я слышала за время моей работы. Отныне я ставлю мерилом моей работы НАСТРОЕНИЕ ДЕТЕЙ. Они веселые, довольные — все хорошо. Если раздражены — надо узнать причину и немедленно изменить то, что их раздражает».
В 1903 году Грачева сумела организовать при приюте амбулаторию для бесплатного лечения и обследования больных детей перед помещением их в приют. В амбулатории активно работали врачи В. М. Бехтерев и А. С. Грибоедов.
В работе «Руководство по воспитанию отсталых детей и идиотов» (1907) Е. К. Грачева утверждала, что общество должно принимать участие в воспитании умственно отсталых детей, поскольку таким образом оно оберегает и себя от большего зла, естественно причиняемого ему «оставленными без должного призора и одичалыми умственно дефективными элементами». Е. К. Грачева одна из первых в нашей стране столь многопланово занималась воспитанием и обучением детей с глубокой умственной отсталостью и продемонстрировала пример человечного отношения к этим детям. Не видя разницы в целях и ценностях воспитания больных и здоровых детей, Грачева отстаивала принципы гуманизма: надо развивать позитивные тенденции ребенка и сглаживать негативные, заботиться, чтобы в учреждении ему жилось хорошо и чтобы он смотрел на него как на родной дом, воспитывать из ребенка трудоспособного и полезного члена общества.Чтобы приучать детей к огородным работам, в июне 1903 года Е. К. Грачева открыла сельскохозяйственную школу на 50 детей в Райволо (ныне поселок Рощино на Карельском перешейке). Некая благотворительница пожертвовала 5 десятин земли и 40 тысяч рублей для устройства приюта в Москве, его открыли в 1905 году. Здесь с детьми работали сурдопедагог Ф. А. Рау и психиатр В. А. Гиляровский, они обучали сестер. В 1907 году состоялся первый выпуск сестер в Москве.
В 1910 году, отправившись в Мариинский приют на ст. Удельной, Грачева организовала там обучение и гимнастические занятия для детей. Воспитанники стали работать на огороде, ухаживали за птицей и домашними животными.
После 1917 года Екатерина Константиновна продолжала работать в бывшем Мариинском приюте, который сначала назывался Мариинской вспомогательной школой, а затем был объединен с бывшим Эммануиловским приютом и стал детдомом № 54.
В 1929 году Е. К. Грачева по состоянию здоровья вышла на пенсию, но помогала детскому дому и работала над книгой «Воспитание и обучение глубоко отсталого ребенка», опубликованной в 1932 году с предисловием Л. С. Выготского.
Екатерина Константиновна скончалась в 1934 году, место ее захоронения неизвестно. За годы своего служения она взяла под свою защиту и воспитала около двух тысяч обездоленных детей. Всему нашему сообществу преподавателей, педагогов и воспитателей важно сохранить память об этой выдающейся подвижнице, всю свою жизнь без остатка отдавшей милосердию, воспитанию и обучению детей с глубокой степенью умственной отсталости и другими нарушениями развития.
Литература
- Грачева Е. К. Воспитание и обучение глубоко отсталого ребенка / Предисл. Л. С. Выготского. М. ; Л., 1932.
- Грачева Е. К. Беседы с сестраминянями о воспитании и развитии детейидиотов и эпилептиков. СПб., 1902.
- Грачева Е. К. Руководство по занятию с отсталыми детьми и идиотами. СПб., 1907.
- Грачева Е. К. Приютышколы для детейидиотов и эпилептиков в Швеции, Франции и Германии. СПб., 1909.
- 36 лет среди больных детей : дневник Е. К. Грачевой// Замский Х. С. Умственно отсталые дети. М., 2008. С. 355–386.
- Князев Е. А. История отечественной педагогики и образования. М., 2017.
- Князев Е. А. Россия: от реформ к революции (1861–1917 годы). М., 2007.


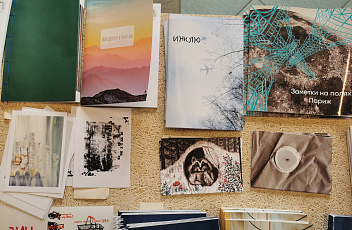

.jpg)
-1.jpg)