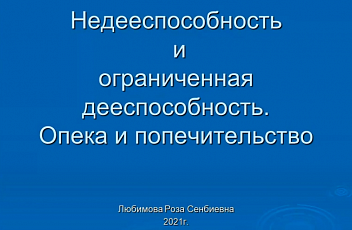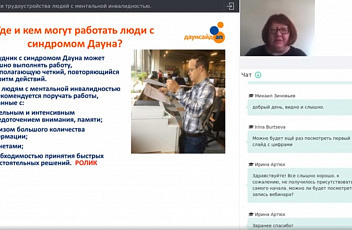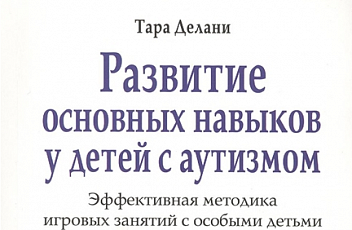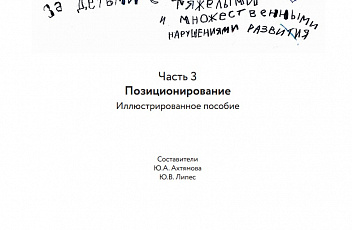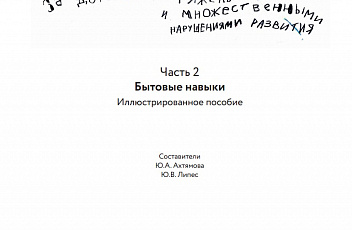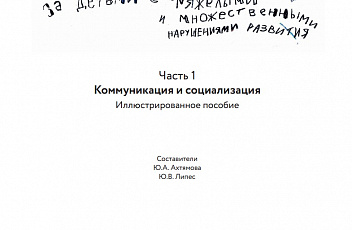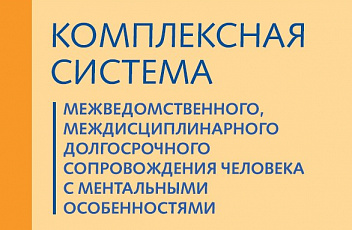Об особенностях таких детей люди обычно знают очень мало.
О жизни таких семей обычно не знают ничего. Мы побеседовали с мамами детей с серьезными нарушениями развития. Получилось несколько рассказов о том, как они узнавали о пугающем диагнозе, как справлялись с первым шоком и другими трудностями, как растут и меняются их дети, какой помощи они ждут.
«Родишь себе нового, здорового»
Ирина, 37 лет
дети: Илья, 7 лет, диагноз — поражение центральной нервной системы, ДЦП (детский церебральный паралич), эпилепсия, задержка психического развития;
Алла, 11 лет
— Моя реакция после родов — кошмарная. Самое страшное — отсутствие информации. Те, кто работает в реанимации, видят синих детей - полутрупов, капельницы, глаза в разные стороны. Их не учат, не показывают, как можно вырастить ребенка-инвалида. Они на улицах таких детей не встречают. (На Западе люди видят, как дети, допустим, с Даун - синдромом гуляют вместе с обычными детьми.) И они тебя очень жалеют. Нянечки — нормальные люди, такие добрые, страдают рядом с тобой, плачут. Сидит рядом с тобой, плачет, говорит: «Милая моя! Ну ничего, родишь себе нового, здорового, а этого отдай и не думай — Бог приберет». Они это не со зла, они просто ничего не знают.
Специалисты говорят одно и то же: откажись от ребенка, он будет лежать как овощ, он тебя никогда не узнает. И мама отказывается от ребенка. А это может быть НОРМАЛЬНЫЙ РЕБЕНОК. Потому что они не могут все знать, они не Господь Бог. Да, он лежит синенький, еле дышит, да, у него нет полмозга. Ну и дальше что? Откуда ты знаешь, что он с этой своей половиной мозга может сделать?
Мы каждый год ходим в больницу, где я рожала Илюшу. Когда через год пришли живые, они очень удивились. Когда через два пришли с улыбкой на лице — удивились еще больше. Когда через пять лет пришли своими ногами (Илюша раньше в коляске ездил, а сейчас сам ходит, даже не за ручку) — они там просто все обалдели.
Хотя дается все с огромным трудом. Большая проблема — образование. Илюша не говорит, речь понимает ограниченно. Только разве если его позовешь, он подойдет. Нас не возьмут ни в какую школу. В школу для детей с ДЦП его не возьмут, потому что он не понимает речи, туда, где дети ничего не понимают, его не возьмут, потому что у него эписиндром, туда, где учатся дети с эписиндромом, его не возьмут, потому что он ничего не понимает и у него ДЦП. Путь практически перекрыт. Нужна методика для работы с детьми со множественными поражениями. Единственная такая школа в Москве в Ясеневе, но там всего 30 детей.
Нам предлагали пойти в интернат. Днем сын был бы там, а вечером мы забирали бы его домой. Но в интернатах их ничему не учат! Они получают тетрадки, карандаши, но у них нет ни программы, ни учебников. Там сидит доктор-логопед. Или, например, психиатр. У нее в кабинете одна игрушка. Она боится, что Илюша бросит эту игрушку на пол. Илюша устраивает истерику — что делать в этом зарешеченном помещении, где сидит тетка в белом халате и смотрит на него напряженно? С моим ребенком не нужно заниматься в белом халате, и на окнах не должно быть решеток!
Мы нашли хорошие занятия для Илюши, ездим четыре раза в неделю. Плюс к врачам надо, магазины тоже на мне. Я все время за рулем, извозчик практически. Я не могу с ним на метро ездить. Там много народу, у него сразу начинается истерика.
Мы сейчас пытаемся ходить в «Макдоналдс». Там хоть и шумно, но там очень быстрая еда, ждать не надо, а еда — для него это важно. В театр с ним без толку идти, он не воспринимает. А вот если перекусить — он согласен. В «Макдоналдсе» он любит молочный коктейль, там можно посидеть — и он ждет. Или, например, знает, что если дошел до булочной, то там получит глазированный сырок. А в следующий раз, может быть, и без сырка обойдется, вдруг он там найдет что-нибудь для себя интересное. Последнее время он начал понимать, что с другим человеком можно в контакт войти. В бассейн стали ходить. А так, если много народу, он кричит, бьется, для окружающих это ужасно.
У нас общество не готово воспринимать таких людей. Информация о них проходит от случая к случаю, а я считаю, что нужно сделать еженедельную передачу про них или в газете периодическую полосу. Чаще всего журналисты пишут с такой идеей — оказывается, это же тоже люди! Так честно и описывают: я шла, очень боялась, а оказалось, что они тоже люди. Это уровень нашего общества. Люди не знают, кому и как помогать.
Самый страшный кошмар, который меня преследует, — пока я есть, я буду это тянуть, а что потом? Я могу накричать, дать подзатыльник, потому что устала, но внутри-то все равно его люблю. И понимаешь, что либо ты что-то сейчас сделаешь, либо он когда-нибудь попадет в такое место, где уже никогда не будет улыбаться. Так что у мам таких детей неправильная жизнь: обычно родители хотят, чтобы их дети жили дольше, чем они. А мы все хотим, чтобы наши дети жили меньше, чем мы. Мы все готовы к тому, чтобы потерять наших детей. Мы очень хотим, чтобы жизнь наших детей ВСЯ была под нашим контролем. Чтобы все тяжелые состояния он переживал при тебе.
«Нет такой службы, чтобы кто-то маму заменил хоть на пару часов»
Олеся, 34 года
дочь Полина, 7 лет, диагноз — органическое поражение центральной нервной системы, задержка развития, атрофия зрительных нервов, эпилепсия, ДЦП
— С тех пор как ушла в декрет, я больше не работала. А была фотографом в службе быта. Главная проблема — это то, что я не могу пойти работать, потому что ребенка никуда не берут. Я пыталась найти какой-нибудь центр, чтобы ее взяли на часть дня, чтобы я могла зарабатывать хоть какие- то деньги. Результат один — идите вы в интернат, и все. А в интернат я ребенка, конечно, не отдам. Это обречет ее на верную смерть, потому что она неходячая. На няню у меня денег нет. И нет такой службы, чтобы кто-то маму заменил хоть на пару часов...
Я общалась с мамой из Питера — там в каждом округе есть детские сады, куда можно на часть дня ребенка отдать, и там с ним занимаются, в том числе и лечебной физкультурой. Специалисты работают — психологи, логопеды и т. д. В Петербурге есть даже автобусы, которые забирают детей-инвалидов в школу. У нас про такие сады я даже не слышала. Для более легких детей, с одним поражением, есть, а для детей с комплексными проблемами дошкольных учреждений нет.
Вообще для Москвы такой ребенок — экзотика. Потому что наши инвалиды прикованы к дому, ничего не приспособлено для того, чтобы они могли куда-то выйти.
Никакого толкового оборудования для детей приобрести невозможно, то, что нам выдают — не подходит. Последняя коляска, которую нам выдали, весит 22 кг. Конечно, грех жаловаться, но если туда еще и ребенка посадить — сами понимаете. К тому же она не входит в лифт, в багажник машины. Мы пытались ее поменять, а нам говорят: вы же видели, что получали. А там выбора не было: либо эту коляску, либо ничего. Поэтому мы если гуляем, то недолго, если ездим в центр заниматься, то я ее несу на руках. Пока еще сил хватает, а что будет дальше?
Даже искупать ребенка сложно, потому что специальные анатомические ванночки — не под наш размер. Поэтому мы купаемся в обычной ванной, я мою ее по частям. Приспособлений-то придумали много, да вот получить их нельзя.
Мы занимаемся в Центре лечебной педагогики уже больше двух лет и очень больших результатов достигли. Когда мы туда пошли, ребенок не то чтобы сидеть не мог, она даже голову не держала. А сейчас она даже на коленках пытается ползать, и сидит сама, стала более общительной, пытается говорить, появились какие-то навыки самообслуживания. Для нас с нашими диагнозами это очень серьезный прогресс. До пяти лет я почти ничего не могла добиться, все мои попытки наталкивались на стенку.
От чиновников я уже такого наслышалась, что диву даешься. В последний раз, например, нам выдали: «Ваш ребенок — ошибка природы, вам нужно родить нового, а этого отдать в интернат». И такое сплошь и рядом.
Окружающие на улице отводят глаза или, наоборот, оборачиваются. Кто-то жалеет, а кто-то может и что-нибудь грязное сказать. Я не обижаюсь. Мне и так хватает проблем, чтобы еще и на это обижаться.
Иногда даже пытаются подать денежку. Мне сначала неудобно было брать, а потом священник говорит: люди же хотят быть добрее, они это даже не столько для тебя, сколько для себя это делают. Поэтому теперь я беру, раз уж человек от чистого сердца. Я же не прошу, они сами мне дают. Но бывает это, слава Богу, редко, потому что стыдно как-то. Воспитаны мы так, что милостыня — это что-то нехорошее.
«Мы не требуем, чтобы из наших детей делали академиков»
Елена, 37 лет
сын Женя, 14 лет, диагноз — аутизм *
— Работа по реабилитации — очень медленная. Это не как у младенцев, когда через три дня их уже не узнаешь. Когда живешь с таким ребенком каждый день, прогресса не замечаешь. А так вот встречаешь знакомых на улице — они говорят: он так меняется!
Нужно быт подстраивать под возможности ребенка. Например, мой ребенок боится спичек. Я не могла себе представить, чтобы он мог себе чай приготовить или еще что-то. Потом мы поставили плиту с газовым контролем и электроподжигом. И теперь мой ребенок себе готовит еду.
Жене уже 14 лет, остро стоит вопрос о профессиональном образовании. Круг специальностей для детей с умственными нарушениями ограничен. Мальчики занимаются столярным делом, а девочки — швейным. Без учета наклонностей и способностей. Нарушения у моего ребенка таковы, что он не сможет обучаться в поточной системе. К тому же в училищах требуются базовые знания, а у него их нет.
Мы не требуем, чтобы из наших детей делали академиков. Мы понимаем, что нашим детям не нужен английский язык, но им нужно человеческое отношение, чтобы с нашими детьми работали люди, которые таких детей не боятся. Которые бы хотели их понять и полюбить и пытались их обучить.
«Связь с врачами поддерживаем через интернет»
Марианна, 32 года
дети: Марк, 7 лет, диагноз — гидроцефалия (водянка мозга); Лена, 3 года
— У Марка была родовая травма, сильное кровоизлияние. Потом тромб встал в том месте, где отток жидкости из головы, и началась гидроцефалия. Она бывает врожденная, но у сына сначала было все в порядке, и это дает больше надежд.
Марк был очень маленький и слабенький, и его отправили на операцию в восемь месяцев, у него стоит шунт, который дает отток жидкости из головы. Операция прошла удачно, до полутора лет он хорошо развивался, стал головой вертеть, на ножки опирался. В полтора года ему сделали прививку — реакцию Манту, а у нее противопоказания по неврологическим нарушениям. Врачи почему-то этого не знали. Начались судороги. А при судорогах нельзя ни массажи делать, ни гимнастику, никакие развивающие процедуры, и нас это сильно отбросило назад.
Изначально нам предлагали от него отказаться. Не хотели отдавать после роддома. Вы, мол, не представляете, что это такое, он у вас не выживет. Но мы стараемся, бабушка помогает, социальная помощь есть.
В пять лет положена компенсация затрат на транспорт. Но мы на эти деньги купили компьютер. Он нам необходим для связи с врачами, другими родителями. Мы через него врачей нашли, про методики узнали. Через компьютер мы получаем массу информации о том, где что с детьми делают, потому что в поликлиниках практически никакой информации не дают. Связь с врачами поддерживаем через интернет. Вот буквально сегодня нам помогла врач с Украины, которая живет в Германии. У нее свой больной ребенок. Я ей описала нашу ситуацию, она нам помогла с диагностикой, назначением лечения. Родители, у которых больные дети, тоже помогают, рассказывают о методиках. Недавно был такой случай. У Марка проблемы с кровью, потому что судороги меняют свертываемость, у него частые кровотечения, не хватало железа. А препараты, которые есть тут, вызывали боли в животе, рвоту. А нам рассказали про очень хорошее французское лекарство. Через интернет мы познакомились с человеком, который нам привез его. Даже денег с нас не взяли. Многих родителей я даже не знаю лично, только по телефону. Хотелось бы познакомиться. Когда я была беременна вторым ребенком, мы долго не могли найти нянечку. Некоторые патронажные службы, когда узнавали, что с ребенком, сразу отказывались. Одна пришла, Марк ей понравился. Потом перезвонила, сказала, что проплакала всю ночь и работать у нас не сможет. Нашли одну няню, которая раньше работала в интернате для больных детей. Она согласилась. Пришлось ее проверять — сможет ли она сделать укол, справиться с судорогами. Гостей у нас почти не бывает, потому что многие боятся зайти на Марка посмотреть. И родственники, и друзья. Но в общем-то их можно понять. Я и сама раньше сложно относилась к таким детям. Я их не осуждаю. Какие-то друзья ушли, какие-то, наоборот, появились.
«Я не оглядываюсь назад»
Анна, 34 года
дочь Маша, 5 лет, диагноз — трисомия по 21-ой хромосоме (синдром Дауна)
— После рождения у Маши помимо нарушения хромосомного набора была масса других врожденных проблем, связанных со здоровьем. К тому же у таких детей пониженный иммунитет. Они легко цепляют всякие болезни. Очень долго, почти три года, мы фактически не выходили из больниц.
После трех лет она немного окрепла и начала ходить. У нас появилась возможность постепенно вводить ее в нормальную детскую жизнь — учить играть, общаться с миром. Общение с Машей очень необычное, индивидуальное. У нее очень независимый характер. Так, в прошлом марте она ходила в интегративный детский сад (там дети в основном здоровые и по два-три ребенка в группе проблемных), но не смогла его долго посещать. Мне рассказали такой случай: я ушла, оставив ее в детском саду, а Маруся надела шапочку, сказала «пока-пока» и пошла в дверь. Ей сказали: «Нет, Маша, мама ушла, а ты останешься здесь». Она упала на пол, рыдала, отказывалась идти к воспитателям. Очень не любит, когда что- то идет не по ней.
Но это обычный ребенок, и хромосомные нарушения не имеют отношения к большинству событий, которые с ней происходят. То есть капризы, насморк и все остальное у нее как у всех людей. Упала, отряхнула ладошки и дальше побежала, как все дети. Она абсолютно нормальный ребенок — и плачет, и смеется, и все делает.
Опыт моего общения с Машей совершенно уникальный, без Маши я бы никогда не испытала того, что я переживаю с ней. У нее свое мироощущение. Вот она бегает — такая светлая, жизнерадостная. Когда глядишь на нее, возрастает ощущение ценности человеческой жизни, всему этому я у нее учусь.
Мы в детском саду подружились с воспитателем Катей и дружим с ней до сих пор. Так постепенно начала сбываться моя мечта о том, чтобы Маша жила активной жизнью, чтобы ее любили. Я очень хочу сохранить тот круг друзей, с которыми сейчас общается наша дочь. Как-то мне одна подруга сказала, что мы все такие разные, но у нас одно дело — мы растим наших детей. Я очень рада, что общаюсь с мамами и папами, у которых такая позиция. Эта позиция — взгляд в будущее. Я не оглядываюсь назад.
«Все время хотелось забиться в угол»
Светлана, 49 лет
сын Юра, 23 года, диагноз — умственная отсталость
— Когда Юра был маленький, он был практически необучаемый. Нам говорили, что мальчик ничего не будет знать, не будет понимать, не будет думать, что его мозг не приспособлен для мышления вообще. Потом он подрос, у него был умный взгляд, он хорошо улыбался, но не мог ни писать, ни читать, не понимал, что цифра — это число, а число — это количество. Он не мог считать лет до двенадцати. А осмысление событий, образное мышление, логика — на хорошем уровне. Смазанная дикция, но при этом по структуре хорошая литературная речь.
Он пошел сначала в речевую школу, но там попалась неудачная учительница. Она его все время ругала, потому что у него мало что получалось, и дети над ним смеялись. Вторая учительница относилась к нему хорошо, но он уже сильно боялся. А когда кончился второй год, нас оттуда выгнали, потому что у Юры были серьезные трудности с обучением.
Юра никак не вписывался в массовый вариант, куда его девать, было непонятно, — для вспомогательной школы он слишком хорош. Потом мы совершенно случайно попали в Центр лечебной педагогики (ЦЛП). Там была школа, где наряду со здоровыми детьми учились и дети с проблемами развития. Я туда пошла на родительское собрание, а возвращалась со слезами на глазах: я поняла, что программа этой школы для нас не подходит, она рассчитана все-таки в основном на нормальных детей.
Тогда нам предложили просто ходить на занятия центра. Его больше учили жить, чем обучали каким-то дисциплинам, но у него сняли страх перед людьми, который сформировался в школе. Потом договорились с 96-й школой, где был класс для аутистов, там была очень хорошая учительница, и Юра начал заниматься. Но потом там была какая- то проверка, а Юра на стандартные тесты и направленное внимание всегда давал негативную реакцию, так что и из этой школы нас выгнали. Больше он не обучался аж до шестнадцати лет.
Когда ему исполнилось шестнадцать, в ЦЛП кончились программы для подростков. Я больше всего боялась того, что Юра почувствует себя никому не нужным. Юра был и сейчас еще остается инфантильным. В свои 23 года он ведет себя как 15-16-летний подросток. Но поступательное движение есть, меня оно вполне устраивает. И если к тридцати годам он будет вести себя как 25-летний, мне этого хватит. Я думаю, что и ему хватит. Я пошла к директору одной из вспомогательных школ и чисто по-человечески ему сказала, что нам надо бы еще освоить письмо и счет. Я не представляла себе, сколько он там проучится, просто нужно было, чтобы он не понял вдруг, что не нужен никому. Тогда еще он не ездил один по городу, он был совершенно несамостоятелен, а мне надо было зарабатывать на жизнь, мне нужно было еще поставить на ноги старшего ребенка. Так что он ходил в эту школу два года, немножечко подучился читать, писать и считать.
Информацию, касающуюся человеческих взаимоотношений, логических взаимосвязей, он улавливает буквально из воздуха, образно мыслит. Он еще маленьким говорил про стоящий экскаватор, что тот опустил голову и отдыхает.
Его хорошо слушаются маленькие дети, в частности аутичные, он может хорошо работать с малышами, даже нормальными, их чему-то учить, с ними куда-то недалеко ходить. Его понимают и воспринимают как старшего. Иногда это довольно сложные дети, с которыми трудно педагогам справиться. Когда одна мама спросила у Юры, почему ее ребенок, тяжело аутичный мальчик, ее не всегда слушается, а Юрку слушается, он ответил, что у каждого внутри есть дверца, которая одним открывается, а другим — нет. А читает он все равно почти по слогам.
Сначала я, как и все родители детей-инвалидов, до смерти боялась того, что мой ребенок не такой, как все. Он действительно был не такой, у него были серьезные эмоциональные отклонения, отклонения в поведении. Кроме того, все время думаешь, что твой ребенок хороший, красивый, вот сейчас — щелк! — и все будет в порядке. И все ждешь-ждешь, что оно щелкнет. Лет до четырнадцати я его безумно стеснялась, потому что на него реагировали на улице, он громко говорил, у него непривычный тембр голоса, у него была неадекватная жестикуляция. И все время хотелось забиться в угол. Потом мы поехали в конный реабилитационный лагерь в Балабаново. Нам сказали, что все наши дети тут нужны, что они будут заниматься с педагогами, ездить на лошадях. Это было совершенно непредставимо, но через день мы решили, что мы, наверное, в земном раю, и стали спокойным шагом ходить по дорожкам. Через неделю все это закончилось. Ко мне подошел педагог и сказал, что, если я своего ребенка не буду держать за руку с утра до ночи, нас удалят, потому что его боятся и родители, и дети. Он оказался слишком эмоциональным, громким. Дня три я плакала, снова хотелось забиться в угол.
Потом стало понятно, что там собрались родители с более тяжелыми проблемами, которые всю жизнь пытаются поднять своих детей, занимаются с ними, чтобы они могли сказать хоть слово. То есть на то, чтобы сделать что-то, что для нас не является проблемой, они могут потратить всю жизнь. Конечно, мой ребенок для них просто ужасен, он может напугать, сбить с ног. Тогда я начала разговаривать с родителями, рассказывать про своего Юру. И что-то сдвинулось, мы стали смотреть друг на друга по-другому. К моему ребенку окружающие относятся неплохо. Хотя в транспорте могут и обругать с неприязнью. Но я заметила, что, когда людям что-то объясняешь, у них снимается страх.
Меня, конечно, мучает насущный вопрос всех родителей детей-инвалидов: можно ли будет спокойно умереть? У меня есть старший сын, но он мне с Юркой не помогает. Когда младший родился, ему было три года, и с детства он был лишен всего, что должен иметь маленький ребенок. А лет с одиннадцати стал совсем взрослым. Юра был очень тяжелым, старший сын ничего для себя не требовал, но старался дистанцироваться от всей этой ситуации. И сейчас я не считаю, что имею моральное право возложить на него ответственность за Юру. Они общаются на семейных торжествах, иногда Юрка ему звонит, старший никогда не звонит. Юрка, надо сказать, относится к нему более адекватно, чем он к нему. Я бы не хотела, чтобы они остались вдвоем без меня. Для обоих это будет мучение.
Хочется успеть подготовить Юру к самостоятельной жизни. Государство в этом не помощник. Никаких государственных программ профессиональной подготовки, никаких программ обустройства жизни для таких людей нет. Специалисты в госучреждениях не знают, как справляться с людьми с тяжелыми множественными нарушениями, и обычно просто говорят, что они необучаемы, и их отовсюду вышвыривают.
Вот в ЦЛП начался новый проект — работы в мастерских. Они там делают самодельную бумагу. Юра учит других работать на компьютере. У нас есть задача — попытаться построить форму жизни для наших детей. Есть даже родительский проект под названием «Образ жизни». Потому что работа для наших детей становится не способом добыть себе средства к существованию и даже не способом самореализации, а именно стержнем образа жизни. Мало кому из них светит создать свою семью, завести детей.
Им необходимо быть нужными, занятыми. Им нужно знать, что их труд общественно полезен, например, что то, что они делают в мастерских, пойдет не им домой, а кому-то еще. И если есть возможность, надо платить им зарплату — пусть 25, 30 рублей. То, что они могут купить шоколадку или аудиокассету, очень сильно их поднимает в собственных глазах, они начинают совсем по-другому жить.
Сейчас раз в неделю по договоренности с администрацией Юра ходит в ЦЛП помогать на кухне.
Для него это форма волонтерской помощи. За ним там тщательно следят. Юра помогает чистить овощи, мыть стены и т. д. Он работает почти полный рабочий день, его там очень хвалят. Он тоже очень доволен. Сначала ворчал и говорил, что устает. Я придумала ему хорошую мотивацию. Я ему сказала, что каждый человек к вечеру устает независимо от того, чистил ли он весь день овощи или валялся на диване. И поэтому лучше устать, приготовив еду для 50 человек, чем просто так лежать на диване. Теперь он туда бегает с удовольствием.
Надо создать механизмы встраивания таких людей в жизнь. Надо, чтобы ребенок получал образование в тех формах, которые ему доступны, и чтобы уровень этого образования был не ниже тех возможностей, которые у него есть. Чтобы у человека была возможность, когда он будет готов к этому, отпустить руку родителей. □
Подготовила Анна ПАЛЬЧЕВА
Приговор обжалованию подлежит
От 60 до 70 процентов всех детей-инвалидов — это дети с психоневрологическими нарушениями. Таким детям помогают в московском Центре лечебной педагогики.
О том, почему в государственном интернате развитие ребенка невозможно, и о том, есть ли перспективы у детей, которых медики признали «неперспективными», рассказывает педагог центра Роман ДИМЕНШТЕЙН.
— Роман Павлович, почему отказ от ребенка — единственный выход, который предлагает родителям государство? И почему большинство быстро соглашается?
— Если проблемы видны уже в роддоме — это бывает при таких заметных генетических нарушениях, как синдром Дауна, — то родителям сразу говорят: вы с таким ребенком без специалистов не справитесь, рожайте нового, а этим пусть занимаются специалисты. При этом никакой должностной инструкции так говорить у врачей нет, тут действует какой-то другой механизм, некая советская инерция, по которой до сих пор живет страна.
Семьи обычно жутко травмируются и от общения со специалистами. Существует представление о т.н. «перспективном ребенке» — когда врачи и дефектологи видят, что у него есть шанс выскочить в более-менее обычную жизнь, хотя бы во вспомогательную школу. Тогда отношения строятся более конструктивно. А если ребенок кажется специалисту неперспективным, то он предлагает сдать его в интернат.
То есть родители слышат некий приговор: ваш ребенок никогда не станет нормальным человеком. А то, что, тем не менее, у ребенка должна быть нормальная жизнь, что он должен развиваться так, как он может, — этого в сознании большинства специалистов нет.
Такова сложившаяся у нас модель взаимоотношений с аномальными людьми. Она не такая жесткая, как была в фашистской Германии, где таких людей просто уничтожали. У советского общества была идея изъять таких людей из обычной жизни. Если общество движется к светлому будущему, все должно идти лучше и лучше. И вдруг рождается ребенок с серьезными нарушениями. Кто в этом виноват? Понятно, что только семья, общество не может быть виновато. Поэтому и не было идеи помочь семье, а была — забрать неудачного ребенка и дать шанс родить других, нормальных. В итоге для «неправильных» детей государство так и не создало никакой инфраструктуры — ни реабилитационной, ни образовательной.
На семью действует еще один принципиальный фактор, заставляющий родителей опускать руки. За советские годы все привыкли, что единственный, кто может что-то дать, — это государство. Если государство тебе чего-то не дает, значит, больше сделать ничего нельзя. А ведь государство сейчас у нас слабое, нет устроенной системы, с которой можно взаимодействовать. И поэтому при попытке взаимодействовать с чиновниками родители впадают в депрессию. А чиновники демонстрируют только одно: мы согласны тратить на ребенка деньги, если вы сдадите его в интернат. А если вы оставляете ребенка дома, то государство на его реабилитацию тратить деньги не согласно.
- Существует ли статистика, сколько детей сдают в интернаты?
- Детей с синдромом Дауна и другими сразу заметными нарушениями сдается колоссальное количество, потому что родители еще не привыкли к ребенку. А если это ребенок с аутизмом, что обычно выясняется достаточно поздно — где-то на третьем году жизни, то тут родители уже прикипели к ребенку и так просто его не отдадут. Но известно и то, что количество детей, которых оставляют в семье, все время увеличивается.
- Чем плох интернат? Только нехваткой средств, нехваткой нянечек, из-за которых, как мы знаем, детей иногда просто не успевают покормить?
- В этой области есть такая аксиома: если мы изымаем ребенка из семьи, из обычной жизни, то потом вернуть его мы уже не можем.
Интернаты плохи даже не тем, что там не хватает персонала и поэтому дети сидят, привязанные к кроватям. Ведь иностранцы, которые у себя 30-40 лет назад реформировали такие интернаты, застали там такие же ужасы, как в наших сегодняшних. Мы видели американские записи — это, может, чуть менее ужасно, но тоже ужасно. Денег тратилось гораздо больше, а получался все равно ад. Тут дело в сути этой системы. Мы выкинули этих детей из мира людей и собрали их в интернаты. Мы их отправили дорогой в никуда — доживать. А что происходит с людьми, которые работают в таком месте, — они все Харонами работают! Есть небольшое количество очень религиозных сотрудников, которые восприняли работу как свой крест. Но гораздо больше тех, кто деградирует вместе с этими детьми.
Я убежден, что в конечном итоге родители и общественность запретят делать то, что сейчас делается в интернатах — в этих местах погубяения. Если делать в этой системе что-то нормальное, нужно преобразовать интернаты во что-то семейноподобное. Но эта система — золотая, на нее у государства денег нет. Удержать такого ребенка в родной семье выйдет дешевле.
Социальная жизнь — это ведь такая ткань, в которую человек вплетается многими-многими ниточками души. И если мы человека из общества изъяли, его жизнь идет как бы отдельной тканью, и ее заплаткой потом к этой большой ткани социальной жизни очень трудно приставить. Если потратить много сил и средств, то человека можно вернуть, — но это на уровне пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу — помните эту историю про цветочницу, из которой сделали настоящую леди? По ней можно оценить, какая нужна работа, чтобы из одной жизни «пересадить» человека в другую. А если мы берем детей с проблемами, которым и так нужно предпринимать большие усилия, чтобы в эту жизнь вписаться, интегрироваться, то для них это еще тяжелее.
- А вы считаете, что нет «неперспективных» детей?
- Да, мы так считаем. Современные способы помощи таким детям позволяют большому количеству детей выйти в обычную жизнь. Родители, которые готовы много сил на это потратить, вместе со специалистами могут достигать невероятных вещей. Для нас стало уже привычным делом, когда прямо у нас на приемах известные специалисты - психиатры, доктора наук говорили, что ребенок необучаем и его нужно сдать в интернат, а сейчас эти дети кончили обычную школу и дальше строят свою жизнь. И это не просто эксклюзивы — это норма. Таких примеров за время нашей работы сотни (нам пошел 15-й год). А может, и куда больше.
Понятно, откуда берутся все прогнозы, связанные с диагнозом. Обычно известно следующее: если есть ребенок с таким-то диагнозом и с ним никак не занимаются, то происходит то-то и то- то. А врачи, которые работают с нами, вынуждены перестраиваться — потому что они видят, что бывает, если с ребенком занимаются. Диагноз — это ведь не приговор. Это просто некоторое нарушение, описанное в медицинских терминах. Ни про один из диагнозов нет никакой тотальной информации, на основании которой можно было бы решить, что ничего сделать нельзя. Диагноз указывает только на некоторые трудности, которые могут возникнуть в развитии ребенка и которые нужно будет учитывать.
Любой ребенок должен получать образование, потому что мы теоретически и из опыта знаем, что познавательные потребности относятся для ребенка к числу фундаментальных. Сейчас уже никого не удивляет, что, если ребенка с синдромом Дауна не обучать, он живет намного меньше, чем если его обучать. И чувствует себя намного хуже. Крайне желательно, чтобы человеку с любыми проблемами можно было и рабочее место устроить, на котором он будет делать какие-то нужные для других людей вещи. И сейчас такие примеры у нас есть: полиграфическая мастерская, которая выпускает красивые блокноты и календари, и гончарная мастерская, изделия которой моментально раскупают на ярмарках.
- А когда в роддоме маме говорят, что ребенок «будет как овощ» — это что имеется в виду? Это описание самого страшного случая, полного неуспеха? Такое действительно бывает?
- Ну, не знаю, может быть, имеются в виду те очень и очень редкие случаи, когда человек действительно ведет почти растительное существование — в том смысле, что никак не проявляется вовне. Но мне кажется, что это чаще бывает в результате тяжелой травмы, а не каких-то врожденных нарушений.
Обычно такие вещи говорят родителям, повинуясь общей идее, которая осталась с советских времен, — говорить всякие страшные вещи, чтобы от ребенка отказались.
Бывают случаи, когда ясно, что ребенок ничего или почти ничего не будет говорить, но вот насчет того, что он не будет ничего понимать... Понимание — оно может быть разным, это целое пространство, и как-то по-своему человек понимает всегда. Но в любом случае надо учитывать, что, даже когда родителям говорят такие тяжелые вещи, реально потом что-то такое бывает в одном случае из очень многих. Такое говорят людям, у которых ребенок будет потом нормально развиваться, тем, у кого он будет развиваться со сложностями, но все же выйдет к обычной жизни, тем, у кого действительно будет какое-то снижение интеллекта, но он будет учиться во вспомогательной школе, — есть много ступеней, а всем говорят одни и те же ужасные вещи.
- Что полезно знать родителям?
- Во-первых, полезно знать законы. Мы встречались с чиновниками и с самого верха, и с самого низа — никто из них, я точно говорю, современных законов не знает. Когда им нужно, они пользуются обломками старого законодательства — что-то давно запрещенное, что-то случайно не отмененное, что-то не действующее... Между тем законы у нас очень продвинутые, у нас есть целый ряд международных договоров, которые мы ратифицировали. У нас есть Конституция, где записано, что всем без исключения обеспечено право на образование. У нас есть Закон об образовании, который все это подтверждает, у нас есть Закон о социальной защите инвалидов. Это законодательство, пока что виртуально, задает некую систему, в которой более-менее можно жить. И если семье показать, что по закону (не по практике) она имеет право на то-то и то-то, то окажется, что это уже очень много. Например, полезно знать, что даже если ты не нашел ничего подходящего в государственной системе и сам оплатил услуги по реабилитации и образованию твоего ребенка, то государство должно тебе эти расходы возместить.
Реально это осуществить пока удалось только у нас, в ЦЯП. Когда мы с юристами изучили эти законы и предложили родителям пройти всю эту цепочку, кому-то пришлось даже пойти в суд. И есть уже полученные деньги.
- Как же родителям узнать, где искать помощь, помимо государства?
-Мы сейчас задумали проект, чтобы в каждом регионе, в каждой поликлинике была информация о такого рода вещах. Раньше мы просто не знали, что на это ответить. У нас в ЦЛП и так очередь на год-полтора на первичный прием — так что мы не можем всем сказать: приходите к нам.
За границей специальные буклеты сообщают родителям еще в роддоме, как только они сталкиваются с проблемой, о том, что есть такие-то родительские организации, вот информация о том, в какой детский сад будет ходить ребенок, где он сможет учиться. Ведь в чем главная катастрофа для родителей? Вот ребенок, а жизненной дороги для него не видно. Так вот на Западе к вам тут же прибегают и рассказывают — вот, есть жизненная дорога с такими-то вариантами. Человек тоже, конечно, переживает, но не так. Когда нет дороги, то он безнадежно горюет.
Пожалуй, самое полезное — знакомить родителей с семьями, где такие же проблемы.