Идеология инклюзии основана на идее включающего общества. Включение другого (человека другой расы, вероисповедания, культуры, человека с ограниченными возможностями здоровья) требует такого изменения социальных институтов, чтобы это включение содействовало интересам всех членов общества, росту их способности к самостоятельной жизни, обеспечению равенства их прав и т. п. [9]. Готовность социума к такому включению проявляется прежде всего в отношении к человеку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Во многих исследованиях подчеркивается значение формирования позитивного отношения к инвалиду, но, как правило, речь идет об отношении общества в целом. Закономерности становления индивидуального отношения к человеку с ОВЗ в настоящее время практически не изучены.
Оптимальное жизненное пространство (инклюзивная среда) должно быть не только принимающим и поддерживающим, но и создающим условия для самореализации людей с ограничениями жизнедеятельности, т. е. обеспечивающим реабилитацию [11]. Воспитание в условиях среды, не соответствующей потребностям и возможностям ребенка с нарушением развития, приводит его к состоянию выученной беспомощности, чувству малоценности.

Понятие реабилитационной среды начало формироваться в конце ХIХ — начале ХХ века, когда согласно новым тенденциям в образовании «проблемных» детей (Ж. Декроли, М. Монтессори, В. П. Кащенко и др.) [2] приоритет стал отдаваться потребностям и интересам самого ребенка. Так называемая функциональная педагогика была направлена на «неприспособленных» по разным причинам детей. Данный подход получил известность как «терапевтическое образование» («therapeutic education») или «лечебная педагогика». В первые десятилетия ХХ века стали развиваться школы для делинквентных и труднообучаемых подростков, создатели которых полагали, что терапевтическую ценность имеют игра и работа, активность и креативность [1]. По сути дела, образовательные структуры, использующие терапевтический подход, во многом предвосхитили современные терапевтические сообщества («therapeutic community») — доминирующую форму современных реабилитационных структур [4]. Ожидаемым результатом терапии средой (от франко-англ. milieu therapy — лечебное воздействие среды, лечение средой) является преодоление чувства зависимости участников терапевтических сообществ, повышение у них чувства личной ответственности [3]. Понимаемая таким образом инклюзия должна содействовать повышению чувства собственной ценности и уверенности в себе у людей с ОВЗ.
Инклюзивная среда призвана предоставлять ребенку с ОВЗ поле активности, поддерживать его самостоятельность. Модель формирования активности людей с ОВЗ требует их деятельностного включения в реальную жизнь — в жизнь семьи, в микро- и макросоциальные структуры. Решение этой задачи подразумевает разработку ценностной концепции инклюзии, которой в настоящий момент противостоит структура общественных ценностей и норм: идеалы достижений, экономического роста, здоровья, соответствующей определенным стандартам красоты и т. п. Люди с умственной и/или физической недостаточностью, не имеющие возможности выполнять многие из этих норм, с большим трудом находят свое место в обществе (либо не находят его вовсе). Без учета социокультурных и психологических аспектов отношения общества к инвалидности усилия по психолого-педагогической абилитации и реабилитации детей с ОВЗ не могут быть результативными.
Исследования, направленные на изучение личных установок и способов поведения «нормальных» людей по отношению к инвалидам [8], позволили выявить стабильную «иерархию популярности» различных видов недостаточности. Те группы людей с инвалидностью, которые больше всех других соответствуют социальным нормам «полноценных» (например, люди с повреждениями межпозвоночного диска, астматики), ранжируются наиболее высоко; люди с нарушениями, которые, по мнению большинства, невозможно совместить с нормативным требованиями, — психически больные или умственно неполноценные — занимают самое низкое место.
Амбивалентные чувства и неуверенное поведение по отношению к людям с той или иной недостаточностью со стороны так называемого здорового большинства приводит к невнятности и противоречивости общественных представлений о возможных моделях жизнеустройства лиц с ОВЗ, что представляет собой самый большой барьер при их инклюзии [10]. Основными причинами такого положения вещей является стабилизация негативных установок путем избирательного восприятия, а также защита от информации, которая, возможно, вызывает страх.

Конечно, без контакта и информации не может быть смены установок, но формальная информация и неподготовленный контакт могут дать эффект бумеранга. Так, например, приводятся данные о том, что при увеличении числа контактов с детьми с трудностями в обучении обычные дети стали избегать контактов с ними гораздо чаще [8].
Отношение общества во многом определяет и формирует как личностную, так и социальную позицию человека с ОВЗ. Для того чтобы создать адекватные подходы к формированию принимающего отношения к людям с ОВЗ, необходимо понять источники существующего отношения, в том числе и психологические.
Эмпирические исследования, проведенные нами, позволили выявить ряд существенных для рассматриваемой проблематики фактов, суть которых мы изложим ниже.
Выборка и инструментарий исследования
Всего в исследовательском проекте приняло участие более 200 человек различного возраста и различных социальных групп: младшие школьники, подростки, молодежь, люди зрелого возраста.
Применялся следующий диагностический комплекс: структурированная беседа, направленная на выявление отношения к людям с ОВЗ, проективные рисуночные методики, методика «Синквейн», методика «Дерево», экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова), опросник для диагностики способности к эмпатии (А. Мехрабиян и Н. Эпштейн), опросник диспозиционной надежды (К. Муздыбаев) [6].
Синквейн представляет собой пятистрочную стихотворную форму, возникшую в начале XX века в США под влиянием японской поэзии. Позднее синквейн использовался как действенный способ развития образной речи, позволяющий быстро получить результат. По мнению ряда методистов, синквейн пригоден в качестве инструмента для извлечения сложной информации [5].
Предложенное нами использование синквейна в качестве диагностической методики требует тщательной обработки результатов с обращением к лексико-семантическому анализу [13].
Методика «Дерево», разработанная Дж. и Д. Лампенами [7], применялась нами для определения характера отношения к человеку с ограниченными возможностями здоровья. Результаты выполнения проективной методики «Дерево» зависят от того, какие позиции выбирает респондент для человека с ограниченными возможностями здоровья, с учетом его комментариев.
Результаты исследования
В первую очередь опишем результаты, полученные при выявлении отношения к инвалиду в группе младших школьников [12]. Понятие «инвалидность», формирующееся у обычных детей, характеризуется простотой и поверхностностью. Ребенок-инвалид в представлении младшего школьника — это человек, имеющий какое-либо заболевание или физический недостаток. При этом они учитывают только наиболее яркие физические признаки и полностью игнорируют интеллектуальные.
На первый взгляд, в отношении младших школьников к детям-инвалидам преобладает позитивное чувство жалости. Наличие негативных чувств по отношению к детям-инвалидам ими полностью отрицается. Однако их позиция очень противоречива и носит формальный характер. С одной стороны, младшим школьникам интересно знать, кто такие дети-инвалиды, и они готовы им помогать, но, с другой стороны, они совершенно не хотят дружить, общаться и обучаться с такими детьми, то есть устанавливать с ними близкие отношения.

В отношении одноклассников к детям-инвалидам, по мнению младших школьников, напротив, преобладают негативные чувства, такие как неприязнь (раздражение) и безразличие. Таким образом, мнение младших школьников о своем отношении и своих чувствах к детям-инвалидам противоположно их мнению о том, как относятся и что чувствуют к детям-инвалидам их одноклассники. Младшие школьники, стремясь подавить свои негативные чувства, проецируют их на одноклассников, приписывая им агрессию, неприязнь и безразличие в отношении детей-инвалидов. При этом создается в целом негативный образ одноклассника как носителя социально не одобряемых качеств.
Схожие данные получены на выборке подростков-старшеклассников [14]. По итогам беседы и выполнения методик «Дерево» и «Синквейн» испытуемые были разделены на три группы (ПО — принимающее отношение; НО — неопределенное отношение; ОО — отвергающее отношение). На первом этапе нашего исследования все ответы давались относительно понятия «инвалид» без уточнения специфики, а на втором – относительно понятия «умственно отсталый». Поэтому, приводя результаты, полученные нами, мы будем уточнять, к какой категории лиц с ограниченными возможностями здоровья они относятся: И – отношение к инвалиду вообще; УО – отношение к умственно отсталому[1].
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что практически все испытуемые, употребляя термин «инвалид», обозначают им лиц с физической недостаточностью (с проблемами передвижения, зрения).
Отношение к инвалиду
К группе (ПО.И) были отнесены респонденты, ответы которых отличались явным толерантным и альтруистическим отношением к инвалидам – 47 %.
Испытуемые определяли человека с особыми потребностями как полноценную личность, имеющую право на равноценную жизнь в обществе, выражали сопереживание и понимание необходимости оказания помощи.
Примеры ответов по методике «Синквейн»: «такой же человек, как и все»; «стремится, преодолевает трудности»; «морально силен»; «трудолюбив»; «побеждает»; «достоин уважения»; «выдержка».
Примеры комментариев по методике «Дерево»: «Человек, который пытается забраться выше»; «нуждается в помощи»; «у него есть поддержка»; «хочет быть наравне с остальными».

Во вторую группу (НО.И) входили испытуемые с нейтральным, отстраненным или амбивалентным отношением к людям с ОВЗ – 23 %. Ответы второй группы не содержали прямого негативного отношения, но встречались высказывания о никчемности существования инвалидов.
Примеры ответов по методике «Синквейн»: «другой»; «непохожий»; «живет»; «им не повезло»; «жалость».
Примеры ответов по методике «Дерево»: «сидит»; «стоит»; «не такой, как остальные»; «сидит один»; «одинок».
В третью группу (ОО.И) были отнесены испытуемые, которые проявляют отвергающее отношение. Им не свойственно сопереживание, уважение и желание оказать помощь инвалидам. Ответы опрашиваемых содержали прямую негативную окрашенность — 30 %.
Примеры ответов по методике «Синквейн»: «существует, а не живет»; «ни к чему не пригодный»; «жалкий»; «всю жизнь лечится»; «неудачник»; «недостоин нашего внимания»; «неполноценный».
Примеры ответов по методике «Дерево»: «не может сделать ничего самостоятельно, без посторонней помощи»; «не имеет свободы действий»; «находится на низшей ступени жизни»; «живет за счет других»; «не может подняться выше».
Таким образом, почти половина респондентов демонстрирует принимающее отношение к инвалидам. В то же время треть испытуемых занимают отвергающую позицию.
Отношение к умственно отсталому
Большая часть (77 %) респондентов демонстрирует отвергающее отношение к умственно отсталым лицам (ОО.УО), и лишь 23 % проявили принимающее отношение (ПО.УО). Нейтрального отношения к данной категории лиц с ОВЗ не выявлено.
Примеры принимающих ответов по методике «Синквейн»: «человек, которому необходимо протянуть руку помощи»; «радуется жизни»; «сочувствие»; «страдает»; «старается, учится».
Примеры комментариев по методике «Дерево»: «стремится к общению с развитыми людьми»; «пытается удержаться»; «старается подняться вверх».
В группу ОО.УО были отнесены испытуемые, которые проявляют отвергающее отношение к людям с умственной отсталостью. Им несвойственно сопереживание, уважение и желание оказать помощь. Ответы опрашиваемых содержат прямую негативную окрашенность.
Примеры отвергающих ответов по методике «Синквейн»: «не развивается»; «глупый»; «остался на том же уровне»; «не живет, а существует»; «жалкий»; «придурковатый»; «бесполезный»; «недалекий»; «тупой»; «не контролирует себя».
Примеры ответов по методике «Дерево»: «человек, который не понимает, что подвергает себя опасности»; «всегда только веселится — ничего другого не умеет делать»; «неуравновешенный»; «несмыслящий»; «не ориентируется в социуме»; «зря надеется на помощь».
Обсуждение результатов
В целом можно отметить, что большинство респондентов относится к инвалидам с принимающей и амбивалентной позиций, отвергающее отношение выявлено менее чем у трети испытуемых. У значительной части выборки преобладают высказывания о том, что инвалид — такой же человек, как и остальные, он имеет право на полноценную жизнь. В то же время активную жизненную позицию у инвалидов признает лишь незначительная часть респондентов. Большинство опрошенных демонстрирует убежденность в необходимости оказания помощи инвалидам. При этом важно отметить, что, несмотря на подобные ответы, когда встает конкретный вопрос, касающийся личного решения по установлению контакта с инвалидом или оказанию ему помощи, респонденты в основном демонстрируют нежелание сталкиваться с представителем этой категории людей.
Случаи личного опыта оказания помощи людям с инвалидностью достаточно редки у наших респондентов, что они объясняют либо боязнью навредить, либо отсутствием такой необходимости.
Отношение к инвалидам в целом и к людям с интеллектуальными нарушениями существенно различается. Преобладающим у респондентов является представление о том, что «умственно отсталый» – это человек, который обречен на никчемное существование, не способен на какие-либо достижения. По мнению испытуемых, умственно отсталые люди остановились в своем развитии и не имеет смысла тратить на них внимание как общества, так и государства. Испытуемые не знают, как относиться к таким людям, как реагировать на них. В группу испытуемых, принимающе относящихся к умственно отсталым людям (ПО.УО), попали исключительно респонденты из группы, принимающе относящейся к инвалидам в целом (ПО.И). Качественный анализ показал, что все испытуемые, имевшие нейтральное, отстраненное или амбивалентное отношение к инвалидам (НО.И), перешли в группу с отвергающим отношением к умственно отсталым (ОО.УО). В группу ОО.УО перешли также 50 % испытуемых, демонстрировавших принимающее отношение к инвалидам (ПО.И).
Отличительной чертой респондентов, вошедших в группу ОО.УО, являются низкие показатели социальной толерантности и способности к эмпатии.
Как было показано выше, уровень толерантности как черты личности примерно одинаков у всех групп испытуемых старших подростков. Значимые различия, выявленные нами относительно социальной толерантности, говорят, по нашему мнению, о том, что в целом респондентами усвоен культурный норматив необходимости быть толерантным в обществе, но при необходимости применять этот норматив к конкретным представителям общества – инвалиду либо умственно отсталому человеку – проявляется субъективное отношение: отвергнуть их, отделить от общества. Иными словами, толерантность для большинства является знаемой, но далеко не всегда реализуемой ценностью.
У группы подростков, относящихся к инвалидам с отвержением (ОО.И), способность к эмпатии значимо ниже, чем у группы, проявляющей нейтральное либо амбивалентное отношение к этой категории людей (НО.И). Стоит отметить, что при сравнении группы НО.И с группой ПО.И по уровню эмпатии выявляются небольшие различия, не достигающие уровня значимости.
Можно сделать вывод, что низкий уровень эмпатии играет существенную роль в формировании отвергающей позиции по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья. При этом высокий уровень эмпатии не обеспечивает напрямую принимающего отношения. Мы можем предложить следующие объяснения этого феномена. Во-первых, высокая способность вчувствования в переживания другого человека при встрече с инвалидностью может вызывать страх и отторжение в качестве защиты от пугающих переживаний, примериваемых на собственное существование. Во-вторых, в случае формирования отношения к умственно отсталому человеку на первый план, по нашему мнению, выступает когнитивный компонент эмпатии. Многие испытуемые подчеркивали чуждость («иной», «другой») для них образа умственно отсталого человека вследствие невозможности понять его внутренний мир. Мы предполагаем, что в этом случае для использования эмпатической способности требуются особые усилия, для совершения которых необходимо ценностно-смысловое обоснование. Очевидно, что для большинства наших респондентов ментальная недостаточность является препятствием к совершению таких усилий. Это предположение косвенно подтверждается и тем, что, как уже отмечалось выше, по отношению к умственно отсталым людям у респондентов не выявлено нейтральной либо амбивалентной позиции. Отношение к данной категории людей является определенным – либо принимающим, либо отвергающим.
Респонденты, характеризующиеся принимающим отношением к инвалидам (включая и умственно отсталых), имеют наиболее высокий показатель диспозиционной надежды, что значимо отличает их от представителей групп с неопределенным или отвергающим отношением. Общая настроенность человека на положительное будущее тесно связана с успешной адаптацией его к трудным обстоятельствам, а также с эффективностью саморегуляции поведения.
Выводы и рекомендации
Подходы к проектированию моделей инклюзии необходимо уточнять и конкретизировать с учетом возможностей и потребностей лиц с различными вариантами недостаточности. Для того чтобы направленно формировать средовые условия, способствующие позитивному самоопределению детей с ОВЗ, следует учитывать особенности отношения к ним со стороны условно здорового социума. «Отношение к другому человеку, к людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину...» (С. Л. Рубинштейн). Выделяются различные пласты (уровни) отношений: функционально-ролевые, эмоционально-оценочные и личностно-смысловые. Первые (нормы, образцы поведения и пр.) являются тем материалом, который усваивается личностью в процессе социализации, они зафиксированы в характерных для данной культуры сферах жизнедеятельности детей и взрослых. Эмоционально-оценочный уровень базируется на переживании симпатий-антипатий, которые могут проявляться в ситуациях возможных конфликтов, например при распределении ролей в игре. И наконец, личностно-смысловые отношения проявляются в том случае, когда интересы и потребности другого переживаются как свои собственные. Возникая в реальном взаимодействии ребенка с другими людьми, они обладают определенной независимостью и, более того, способны активно влиять на другие уровни отношений, например на эмоционально-оценочный уровень.
Проведенное нами исследование свидетельствует о неоднозначности отношения к обобщенному образу инвалида и преимущественно отвергающей позиции по отношению к человеку с умственной отсталостью. Между тем именно эта категория лиц составляет наиболее значительную часть инвалидов и требует особых усилий общества в создании условий для их инклюзии.
Активная пропаганда толерантного отношения к инвалидам далеко не всегда может преодолеть негативные установки избегания «иных» людей, основанные на переживании чувств неприязни и страха. Результатом подобной пропаганды может быть сокрытие (или подавление) истинных чувств и замена их «социально одобряемыми».
Программы формирования принимающего отношения к людям с интеллектуальной недостаточностью должны основываться на деятельностном подходе, предполагающем осуществление инклюзивных контактов в предметно-практической деятельности, игре, творчестве. Адекватное и позитивное представление о детях с ограниченными возможностями, а также умения и навыки общения с ними формируются опытным путем. Неподготовленность таких контактов может не только снизить эффективность инклюзии, но и привести к психологической травматизации как детей с ОВЗ, так и здоровых детей.
Литература
- Айхорн А. Трудный подросток. М., 2001.
- Замский Х. С. Умственно отсталые дети: история их изучения, воспитания и обучения. М., 1995.
- Кабанов М. М. Больной и среда в процессе реабилитации // Вестник АМН СССР. 1977. № 4.
- Кеннард Д. Терапевтические сообщества // Московский психотерапевтический журнал. 2007. № 1. С. 160—181.
- Мой выбор : учеб.-метод. изд. для учителей средней школы. Изд. второе, испр. и доп. М. : Учительская газета, 2001.
- Муздыбаев К. Измерение надежды // Психологический журнал. 1999. Т. 20, № 4. С. 26—35.
- Психологическая профилактика дезадаптации учащихся в начале обучения в средней школе : метод. рекомендации для школьных психологов / под ред. Л. П. Пономаренко. Одесса, 1998.
- Цубер Й., Вейс Й., Кох У. Психологические аспекты реабилитации // Клиническая психология / под ред. М. Перре, У. Бауманн. СПб., 2006.
- Шеманов А. Ю., Попова Н. Т. Инклюзия в культурологической перспективе // Психологическая наука и образование. 2011. №1. C. 74—82.
- Щербакова А. М. «Я» и «Другой» через призму отношения к инвалидам // Протеатр. Феномен «особого театра» и современная культура : (с приложением реестра «особых» театров). М., 2008. С. 205—219.
- Щербакова А. М. Психологические аспекты реабилитационной среды // Другое детство : сб. науч. ст. М., 2009. С. 239—250.
- Щербакова А. М. Особенности отношения младших школьников к детям-инвалидам // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2007. Т. 7, № 2. С. 52—58.
- Щербакова А. М., Баскакова Ю. В. Изучение отношения к собственной инвалидности слепых и слабовидящих молодых людей с помощью методики «Синквейн» // Психологическая наука и образование. 2014. Т. 6, № 3. С. 208–226. URL: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2014/n3/71394.shtml (дата обращения: 30.10.2015).
- Щербакова А. М. Psychological aspects of inclusive setting for children with disabilities // Social welfare: interdisciplinary approach. 2015. Vol. 1, № 5. URL: http://socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/7 (дата обращения: 30.11.2015).
[1] Формулировка «умственная отсталость» применялась автором исследования сознательно. При проведении опросов учитывалась закрепленность в общественном сознании именно этого термина.



.jpg)
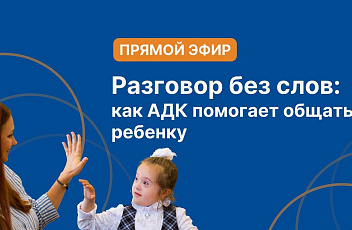
.jpg)

.png)










.jpg)
.jpg)