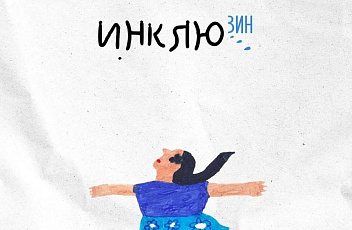Саркису двадцать лет, он симпатичный молодой человек с синдромом Дауна, и, как все современные подростки, очень любит разные технические штучки: плееры, телефоны, планшеты. А еще – и это тоже очень современно – он постоянно фотографирует на свой мобильный всё, что ни попадается ему на глаза. На вопрос о том, что он снимает, не всегда можно получить ответ – так Саркис бывает увлечен процессом съемки.
Мы часто слышим о том, что люди с интеллектуальными нарушениями прекрасно рисуют, исполняют роли в театре, играют на музыкальных инструментах, а вот сообщения об их увлечении фотографией приходят редко*. К тому же всегда есть толика сомнения: фото для них – серьезное занятия или баловство, как и для многих подростков мира iPhon. Об отношениях особых людей с фотоаппаратом мы поговорили с руководителем студии «Протография» РОО СТР «Круг» Алексеем Щербаковым – пожалуй, единственным в Москве человеком, который системно занимается с особыми ребятами фотографией.
* Читайте на эту тему статью «На пути к успеху. С приветом из Америки!» в журнале «Сделай шаг» № 45, апрель 2012.
– У «Круга» есть свой особый стиль, настроение, тон: что-то аутентичное, даже архаическое, поиск истоков. И тут фотография – техника, мода, скорость. Нет ли между «большой» организацией и вашим объединением противоречия?

– Студия «Протография» – плод работы «Круга», где разные формы искусства находятся в общем ряду. Все наши воспитанники, как правило, уже давно занимаются разными видами творчества: театром, лепкой из глины, валянием, – и фотография, таким образом, является очередной ступенью в их развитии. Очередной, но не обязательной. С другой стороны, концепция «Круга» основана на групповой деятельности, в то время как фотография – один из немногих жанров, где ребята ведут, в основном, индивидуальную работу. Поэтому мы считаем, что к ней нужно быть готовым: то есть сначала «пропитаться» атмосферой группового творчества, и лишь затем приступать к фотографии.
– Системное занятие фотографией – это ведь не простое щелканье по принципу «никто не застрахован от удачного кадра»?
– Конечно, фотография как мастерство подразумевает и техническое освоение аппаратов, и серьезную творческую составляющую. В студии мы снимаем только на цифровые камеры, но, для того чтобы научится фотографировать осмысленно, мы проводим целый ряд тренингов. Прежде всего, работаем с прямоугольной формой кадра, так как на фотографии все объекты помещаются в рамку фотоснимка. Мы располагаем объекты на прямоугольном пространстве листа или проводим тренинг с рамкой. Ребята ходят с ней, ищут объекты, пытаются поместить их в ее четкие границы.
– А элемент творчества?
– Я бы не стал в данном случае говорить о творчестве или делать на этом акцент. Все-таки творчество – это волевой акт, и с этим у особых ребят не всё просто. Наша задача – правильно подобрать задание для каждого конкретного человека, помочь ему увидеть объект и проявить к нему свой интерес. Мы разбираем, что такое фон, причем берем простые цвета: черный, белый, красный. На этот фон ставим объект – играем с ним, ищем границы кадра. Постепенно осваиваем основы композиции: учимся выстраивать из простых бытовых предметов орнаменты, работать с такими понятиями, как «хаос» и «порядок». Наша работа идет очень и очень медленно, но мы и не спешим… Однажды один молодой человек с очень тонкой психической организацией нашел и сфотографировал провода, торчащие из земли, так, как будто это цветы, железные цветы города. И это огромное достижение! Дело в том, что у особых ребят есть очень четкое – как правило, заданное родителями или учителями – представление о вещах. Например, мы делали проект «Всюду жизнь», где нужно было найти красоту там, где ей быть не положено, – в мусоре. Ребята оказались в большом затруднении. Они говорили: «Это же свалка, это плохо, зачем ее фотографировать?!» Поэтому сложно говорить о творчестве там, где постоянно есть это противопоставление: хорошо – плохо.
– Алексей, расскажите, как вообще появилась студия? Как вы искали подход к ребятам?
– У нашей студии есть легенда. Студия появилась из одной фотографии. Однажды я познакомился с испанцем инвалидом, у него были серьезные проблемы с ногой. И мы решили с ним сделать фотосессию. У нас получилась фотография, где он лежит в форме эмбриона. Когда я увидел это фото, то вдруг понял, что это невероятно красиво. Я как психолог работал тогда над темой восприятия детей-инвалидов их родителями и понял, что положительного визуального образа человека с инвалидностью просто нет. Постепенно мне стало ясно, что именно фотография с ее предельной наглядностью может быть достаточно простым способом, чтобы этот положительный образ создавать – и для конкретных людей, и для всего общества. Когда ребята стали снимать, возникла необходимость разработать специальный комплекс для обучения навыкам съемки. Что касается подхода… Если честно, у нас вообще нет задачи вытащить что-то уникальное, личное, глубоко внутреннее, как сейчас модно – это не фототерапия. Мы больше работаем с развитием их визуального восприятия, но через это человек растет, постепенно начинает понимать какие-то смыслы.
– Однако наверняка это «внутреннее» проявляется само собой?
– Пожалуй, да. Когда мы раздали ребятам фотоаппараты и они начали снимать, постепенно выяснилось, что у ребят с нарушениями аутистического спектра получается идеально выстроенная композиция, а вот люди с подвижной психикой гораздо лучше работают с формой. Ребятам с эмоционально-волевыми проблемами не нужно ничего объяснять – они постепенно сами дойдут до понимания, их стоит только хвалить и поощрять. Мы увидели это и постепенно стали более адресно давать задания. Сначала в работах был бесконечный «шум»: знаете, так снимают маленькие дети – непонятно, что на фото, все в кучу, ни объекта, ни композиции. Нашим воспитанникам очень сложно из общего хаоса окружающего мира выделить объект, проявить к нему интерес и удержать его. Но постепенно происходит развитие. Простой пример: одна девочка с диагнозом шизофрения фотографировала сначала очень нечетко, все изображения были размазаны, никакие явные объекты на них не просматривались. Постепенно она начала снимать людей, что для нее было большим достижением. Однако возникало ощущение, что она словно наблюдает за людьми из-за угла, очень стесняется. Так ее внутренняя природа проявилась в сюжетах и образах фотографий.
– Вы упомянули об интересе. Действительно, как зародить его в ребятах, как удержать?
– Интерес к конкретным вещам у особых детей появляется постепенно. Здесь важно больше пробовать, экспериментировать. Мы иногда выходим на пленэры, и наши девушки, к примеру, очень любят снимать названия, вывески, витрины. Или вот молодой человек Сергей: он очень трудно усваивал технические моменты, не понимал, но, вернувшись из одной поездки, привез 4 гигабайта фотографий. Да, его прорвало! Он научился выделять объект, и интерес к фото только возрос. Также интерес ребят к фотографии мы поддерживаем и тем, что они могут принимать участие в фотосессиях в качестве моделей. Это тоже очень важная часть работы – они расширяют представления о своем теле. Иногда мы работаем на достижение терапевтического эффекта. Так, с одним молодым человеком с проблемами костной ткани (у него горб) мы специально работали над тем, чтобы он перестал стесняться своего тела. На фотографиях он увидел красоту движения, проникся образами, которые удалось создать. Это было очень важно для него, так как он выходит на сцену в спектаклях театральной студии.
– Еще одним сильным мотивом могут быть, к примеру, выставки?
– Да, ребята всегда с нетерпением ждут выставки своих работ. Их можно было видеть в Доме фотографа на Гоголевском бульваре, в Инфоцентре ООН, в Третьяковской галерее на Крымском валу в рамках темы «От архаики до авангарда». Вообще, любая демонстрация работ меняет отношение ребят к ним. Поэтому мы в студии постоянно проводим анализ работ, выражаем отношение к фотографиям друг друга, делаем слайд-шоу. Все-таки фотография – дело публичное, и ее должны видеть.





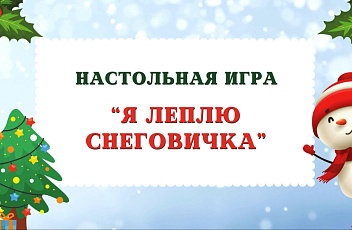

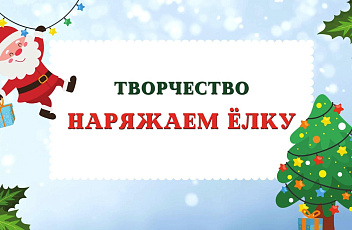



_page-0001.jpg)